Классический стиль
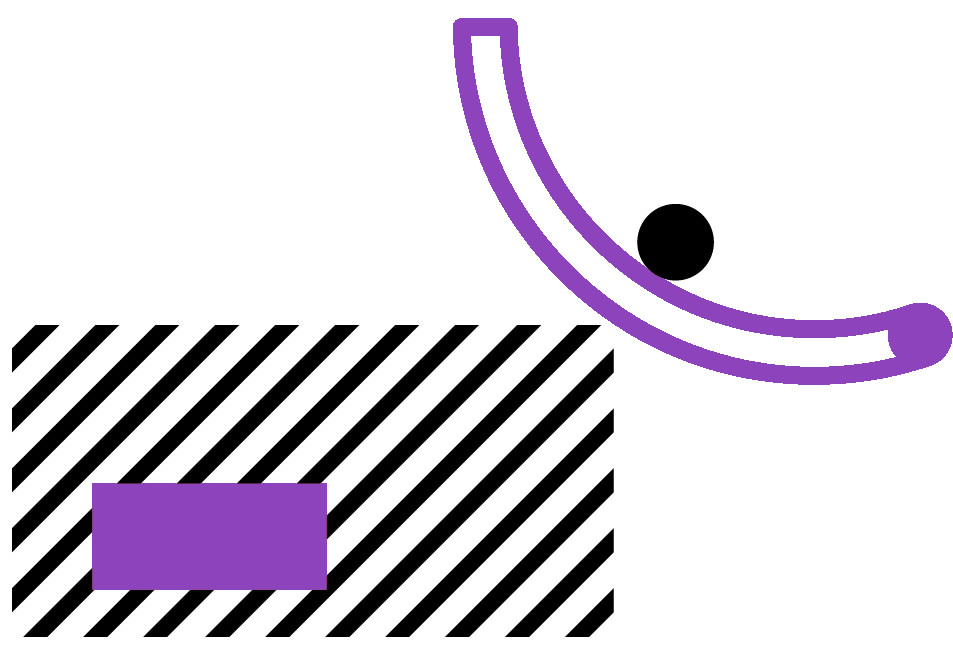
Знакомое по пятому уроку деление на пять стилей — художественный, публицистический, научный, официально-деловой, разговорный — нам уже не пригодится. Оно слишком общо и не используется за пределами РФ — а мы не хотим игнорировать опыт западных литературоведов. Они внутри одного только художественного выделяют 5-7 стилей, а кто-то и больше: общепринятого стилевого разделения не сложилось.
Писать без выбранного и устойчивого стиля значит писать, не представляя полностью, на что способен текст, где его пределы, кто его читатели и каковы цели автора. Без решений про всё это текстописание бывает пыткой.
Фрэнсис-Ноэль Томас, Марк Тёрнер
"Clear and Simple as the Truth"
Описать стиль только через формальные признаки (объём, словарный состав, длины предложений, типы синтаксиса, типы образов и т. д.) — недостаточно. Языковые техники создаются с учетом принципов стиля. Копировать техники, не оглядываясь на принципы, возможно, конечно. Это называется «карго-культ» и хороших цельных произведений так не напишешь.
Откуда берутся принципы? Из отношения автора к себе, читателям, языку, содержаниям и задачам текстов. Исчерпывающего списка вопросов нет, кое-какие из них мы разбирали вокруг модели Якобсона: каков контекст коммуникации, её задачи? кто читатель? как связан автор с читателем?
Другие примеры: что в этой теме вообще можно описать словами, а что нельзя? насколько точными должны быть описания? допустимы ли мета-слои и личное мнение? надо ли быть серьёзным? требуется ли однозначность?
Разные ответы ведут к разным стилям. Практическая инструкция требует однозначности и безличности, безличная автобиография невозможна (хотя автобиографии пишут в разных стилях), в порнорассказах больше телесной конкретики, чем в некрологах. Но стили могут и пересекаться в точках схожих ответов.
Резюмирую: стиль — пакет с решениями (ответами на вопросы). В сложившихся стилях большинство стратегических решений уже принято за вас, остаются тактические нюансы. Желающие дополнительно «индивидуализировать» свой стиль заново задают себе многие вопросы.
Эта главка в основном посвящена классическому стилю прозы, который сложнее базового стиля (plain style),проще* прямее иронического, элегантнее практического (practical), обезличеннее романтического (romantic) и «размышленческого» (contemplative) стилей.
*овладеть классическим стилем, увы, не проще, чем ироническим.
Почему я хочу, чтобы вы освоили «классику»? Она универсальна: применима и в «прозе», и в non-fiction текстах, может быть стилистически нейтральным «мясом», к которому добавляются или не добавляются специи других стилей. Ещё классический стиль не примитивен, дисциплинирует мышление, склонен удерживать, а не отпугивать массового читателя… и внятно объяснен.
Правда, Фрэнсис-Ноэль Томас и Марк Тёрнер, на чью книгу Clear and Simple as the Truth я далее опираюсь, потратили на это объяснение 100+ страниц. Я вынужден выражаться более сжато, так что не стесняйтесь обращаться к первоисточнику, если мой пересказ понятен не на 100%.
Начнем с нескольких примеров в классическом стиле.
Откуда берутся принципы? Из отношения автора к себе, читателям, языку, содержаниям и задачам текстов. Исчерпывающего списка вопросов нет, кое-какие из них мы разбирали вокруг модели Якобсона: каков контекст коммуникации, её задачи? кто читатель? как связан автор с читателем?
Другие примеры: что в этой теме вообще можно описать словами, а что нельзя? насколько точными должны быть описания? допустимы ли мета-слои и личное мнение? надо ли быть серьёзным? требуется ли однозначность?
Разные ответы ведут к разным стилям. Практическая инструкция требует однозначности и безличности, безличная автобиография невозможна (хотя автобиографии пишут в разных стилях), в порнорассказах больше телесной конкретики, чем в некрологах. Но стили могут и пересекаться в точках схожих ответов.
Резюмирую: стиль — пакет с решениями (ответами на вопросы). В сложившихся стилях большинство стратегических решений уже принято за вас, остаются тактические нюансы. Желающие дополнительно «индивидуализировать» свой стиль заново задают себе многие вопросы.
Эта главка в основном посвящена классическому стилю прозы, который сложнее базового стиля (plain style),
*овладеть классическим стилем, увы, не проще, чем ироническим.
Почему я хочу, чтобы вы освоили «классику»? Она универсальна: применима и в «прозе», и в non-fiction текстах, может быть стилистически нейтральным «мясом», к которому добавляются или не добавляются специи других стилей. Ещё классический стиль не примитивен, дисциплинирует мышление, склонен удерживать, а не отпугивать массового читателя… и внятно объяснен.
Правда, Фрэнсис-Ноэль Томас и Марк Тёрнер, на чью книгу Clear and Simple as the Truth я далее опираюсь, потратили на это объяснение 100+ страниц. Я вынужден выражаться более сжато, так что не стесняйтесь обращаться к первоисточнику, если мой пересказ понятен не на 100%.
Начнем с нескольких примеров в классическом стиле.
В буквальном смысле перевод Галлана хуже всех, он наименее точен и наиболее слаб, но он был самым читаемым. Кто уединялся с ним, познавал счастье и восторг. Его ориентализм, сегодня кажущийся нам плоским, воспламенил множество любителей табака и сочинителей пятиактных трагедий. Между 1707 и 1717 годами появилось двенадцать изящных томов, переведенных на различные языки, в том числе на хинди и арабский. Мы, простые читатели-мифоманы XX века, ощущаем в них сладковатый привкус XVIII, а не смутный восточный аромат, определивший двести лет назад его новизну и известность. Никто не виноват в этой невстрече, и меньше всего Галлан.
Хорхе Луис Борхес, «Переводчики "1000 и 1 ночи"»
Хорхе Луис Борхес, «Переводчики "1000 и 1 ночи"»
В 1515 году отцу Бартоломе де Лас Касасу стало очень жалко индейцев, изнемогавших от непосильного труда в аду антильских золотых копей, и он предложил императору Карлу V ввозить негров, чтобы от непосильного труда в аду антильских золотых копей изнемогали негры.
Хорхе Луис Борхес, «Всемирная история низости»
Хорхе Луис Борхес, «Всемирная история низости»
В-третьих, бабушка Петрова не разрешала Петрову ничего делать по саду, а потом жаловалась, что Петров ей не помогает, а только мешает. Не давала она ничего делать, поскольку когда-то давно ее младший брат уколол палец в деревне и умер от столбняка, а жаловалась, поскольку помощь ей все равно была нужна.
<…>
Петров с запасом накуривался на балконе, глядя на то, как ходят по двору люди, как целый день выгуливают во дворе то одних, то других собак, то мелких, то крупных, как мелкие собаки делают вид, что пытаются сожрать крупных собак, а крупные собаки на самом деле пытались сожрать мелких, но все время мешал то поводок, то намордник.
Алексей Сальников, «Петровы в гриппе и вокруг него»
<…>
Петров с запасом накуривался на балконе, глядя на то, как ходят по двору люди, как целый день выгуливают во дворе то одних, то других собак, то мелких, то крупных, как мелкие собаки делают вид, что пытаются сожрать крупных собак, а крупные собаки на самом деле пытались сожрать мелких, но все время мешал то поводок, то намордник.
Алексей Сальников, «Петровы в гриппе и вокруг него»
Отец мой был мировым судьей, и я считал, что он властен над жизнью и смертью всех людей и может повесить любого, кто его обидит. В общем, это и меня достаточно возвышало, но все-таки желание попасть на пароход вечно томило меня. Сначала я хотел быть юнгой, чтобы можно было выскочить на палубу в белом переднике и стряхнуть за борт скатерть с той стороны, с которой меня могли увидеть все старые друзья; потом меня больше стала привлекать роль того палубного матроса, который стоял на сходнях со свернутым канатом, потому что он особенно бросался в глаза. Но все это были только мечты — слишком прекрасные, чтобы стать реальными.
Марк Твен
Марк Твен
Еще больше не повезло Гийому ле Жентилю, злоключения которого замечательно описаны Тимоти Феррисом в книге «Совершеннолетие на Млечном Пути». Ле Жентиль отправился из Франции за год до события, чтобы наблюдать прохождение Венеры по диску Солнца из Индии, но из-за всяческих задержек в день прохождения он все еще был в море — хуже места не придумаешь, поскольку при качке надежных измерений не сделать.
Не сломленный неудачей ле Жентиль проследовал в Индию и остался там ждать второго прохождения в 1769 году. Имея в запасе восемь лет, он соорудил первоклассный наблюдательный пункт, не раз проверил все приборы и держал их в идеальной готовности. Утро 4 июня 1769 года, в день второго прохождения, было ясным; но, как только явление началось, на Солнце набежало облако и оставалось там почти ровно столько времени, сколько длилось прохождение — 3 часа 14 минут и 7 секунд.
Ле Жентиль стоически упаковал приборы и отправился в ближайший порт, но по пути подхватил дизентерию и проболел почти год. Все еще будучи ослабленным болезнью, он сел на корабль, который едва не погиб в тропическом циклоне у берегов Африки. Когда он наконец добрался до дома, через 11,5 лет после начала путешествия и не получив никаких результатов, то обнаружил, что за время отсутствия родственники успели объявить его умершим и с радостью растащили все имущество.
Билл Брайсон, «Краткая история почти всего на свете»
Не сломленный неудачей ле Жентиль проследовал в Индию и остался там ждать второго прохождения в 1769 году. Имея в запасе восемь лет, он соорудил первоклассный наблюдательный пункт, не раз проверил все приборы и держал их в идеальной готовности. Утро 4 июня 1769 года, в день второго прохождения, было ясным; но, как только явление началось, на Солнце набежало облако и оставалось там почти ровно столько времени, сколько длилось прохождение — 3 часа 14 минут и 7 секунд.
Ле Жентиль стоически упаковал приборы и отправился в ближайший порт, но по пути подхватил дизентерию и проболел почти год. Все еще будучи ослабленным болезнью, он сел на корабль, который едва не погиб в тропическом циклоне у берегов Африки. Когда он наконец добрался до дома, через 11,5 лет после начала путешествия и не получив никаких результатов, то обнаружил, что за время отсутствия родственники успели объявить его умершим и с радостью растащили все имущество.
Билл Брайсон, «Краткая история почти всего на свете»
Он любил растения, любил природу и ненавидел людей всей душой, так, как это может делать только настоящий ученый.
Дмитрий Иванов, «За не очень высоким забором»
Дмитрий Иванов, «За не очень высоким забором»
Как понять, что перед вами «классика»? Она следует формуле «знающий рассказчик правдиво повествует об интересных ему вещах, не искажая их субъективностью и не отвлекаясь на языковые игры».
Перед читателем — то самое «прозрачное-незаметное окно в мир», вымышленный или реальный. Никаких мета-слоёв, никакой избыточной образности или риторических фокусов, переключающих внимание с содержания на форму изложения.
Разложим формулу на части — ответим на стилеобразующие вопросы.
Перед читателем — то самое «прозрачное-незаметное окно в мир», вымышленный или реальный. Никаких мета-слоёв, никакой избыточной образности или риторических фокусов, переключающих внимание с содержания на форму изложения.
Разложим формулу на части — ответим на стилеобразующие вопросы.
1
«Рассказчик»
Прототип такой коммуникации — один человек устно излагает что-то другому. Не «пишет», не «читает по бумажке», не выступает перед многочисленной или малочисленной аудиторией. Рассказывает. Соответственно: синтаксис не очень сложный (но не упрощается до «разговорного»!), как будто складно, но спонтанно говорит человек с хорошо подвешенным языком.
Любой не-индивидуальный стиль — это некая поза, притворство. Разумеется, авторы-классики долго обдумывали, писали, а потом редактировали до посинения. Но их проза этого не показывает, притворяется, что рождена естественно, без усилий, как бы походя. Как в ресторане — блюдо вам приносят готовым, а кухни как бы и нет.
Занятный парадокс: именно благодаря усердной работе написанное и не выглядит как результат усердной работы, не выглядит старательно написанным.
Любой не-индивидуальный стиль — это некая поза, притворство. Разумеется, авторы-классики долго обдумывали, писали, а потом редактировали до посинения. Но их проза этого не показывает, притворяется, что рождена естественно, без усилий, как бы походя. Как в ресторане — блюдо вам приносят готовым, а кухни как бы и нет.
Занятный парадокс: именно благодаря усердной работе написанное и не выглядит как результат усердной работы, не выглядит старательно написанным.
2
«Правдивый и знающий»
Как отчеканил академик Андрей Зализняк, истина существует, и целью науки является её поиск. Тезис «истина существует» — стержень классического стиля, используемого многими учеными, например, Декартом, который описывал, как именно наука ищет истины («Рассуждение о методе»).
«Автор-классик» не должен и не может задаваться вопросами «а можно ли вообще определить, что такое "правда"?», «можно ли по-настоящему что-то знать с уверенностью?», «а где граница между реальностью и моим восприятием?» Он оставляет это философам, работающим в размышленческом стиле.
Миссия К-стиля (всё, буду называть его так) — показ действительности, «правды жизни».
Из этого следует, что автор сначала сталкивается с этой действительностью, потом обдумывает её, потом «показывает» читателю. У него нет и тени сомнения, что он демонстрирует правдиво: он либо сам прожил этот опыт, либо получил его из достоверных источников. Посмотрим на вышеприведенные примеры.
Марк Твен: описывает своё детство.
Брайсон: шанса лично сопутствовать ле Жентилю не имел, пересказывает по чужой книге. Могли в этой книге приврать? Теоретически любой автор может оказаться обманщиком, но джентльмены не подозревают других без веских на то оснований.
Борхес про «1000 и одну ночь»: стоит в уверенной позе. История этой книги весьма запутана, источники противоречивы, неточности вполне могли пролезть в рассказ. И всё же изложение остаётся уверенным: таков путь. В других работах Борхес этим же К-стилем начинает, раскладывая тонны правдоподобных подробностей, излагать то, чего никогда не было, потому что мистификации — его фирменная фишка. См., например, «Тлён, Укбар, Орбис Терциус».
Сальников: показывает правду жизни вымышленных людей. Они у него как живые в том числе из-за его уверенной стилевой позы.
Про нон-фикшн: подходящее содержание для К-стиля — то, что теоретически могли увидеть и воспринять другие люди помимо автора. Без машины времени не попасть на Миссиссипи эпохи Марка Твена и не проверить, насколько Твен правдив. Но если бы мы были там, мы бы увидели и услышали эти берега, пароходы, мальчишек и прочее.
Историк Фукидид описывал К-стилем дела древних греков, и это тоже не эксклюзивное содержание, как и современный научпоп или туристический гайд. Если вы терпеливы и знакомы с формальной логикой, вы могли бы проделать те же рассуждения, что проделал Декарт (да, это сложно, но знаем ли мы, что Декарту было легко?)
Такому «внешнему» содержанию противопоставлен «внутренний мир автора», который передается не классическим, а романтическим стилем.
«Автор-классик» не должен и не может задаваться вопросами «а можно ли вообще определить, что такое "правда"?», «можно ли по-настоящему что-то знать с уверенностью?», «а где граница между реальностью и моим восприятием?» Он оставляет это философам, работающим в размышленческом стиле.
Миссия К-стиля (всё, буду называть его так) — показ действительности, «правды жизни».
Из этого следует, что автор сначала сталкивается с этой действительностью, потом обдумывает её, потом «показывает» читателю. У него нет и тени сомнения, что он демонстрирует правдиво: он либо сам прожил этот опыт, либо получил его из достоверных источников. Посмотрим на вышеприведенные примеры.
Марк Твен: описывает своё детство.
Брайсон: шанса лично сопутствовать ле Жентилю не имел, пересказывает по чужой книге. Могли в этой книге приврать? Теоретически любой автор может оказаться обманщиком, но джентльмены не подозревают других без веских на то оснований.
Борхес про «1000 и одну ночь»: стоит в уверенной позе. История этой книги весьма запутана, источники противоречивы, неточности вполне могли пролезть в рассказ. И всё же изложение остаётся уверенным: таков путь. В других работах Борхес этим же К-стилем начинает, раскладывая тонны правдоподобных подробностей, излагать то, чего никогда не было, потому что мистификации — его фирменная фишка. См., например, «Тлён, Укбар, Орбис Терциус».
Сальников: показывает правду жизни вымышленных людей. Они у него как живые в том числе из-за его уверенной стилевой позы.
Про нон-фикшн: подходящее содержание для К-стиля — то, что теоретически могли увидеть и воспринять другие люди помимо автора. Без машины времени не попасть на Миссиссипи эпохи Марка Твена и не проверить, насколько Твен правдив. Но если бы мы были там, мы бы увидели и услышали эти берега, пароходы, мальчишек и прочее.
Историк Фукидид описывал К-стилем дела древних греков, и это тоже не эксклюзивное содержание, как и современный научпоп или туристический гайд. Если вы терпеливы и знакомы с формальной логикой, вы могли бы проделать те же рассуждения, что проделал Декарт (да, это сложно, но знаем ли мы, что Декарту было легко?)
Такому «внешнему» содержанию противопоставлен «внутренний мир автора», который передается не классическим, а романтическим стилем.
Ах, какой трепет пробегает у меня по жилам, когда пальцы наши соприкоснутся невзначай или нога моя под столом встретит ее ножку! Я отшатываюсь, как от огня, но тайная сила влечет меня обратно — и голова идет кругом! А она в невинности своей, в простодушии своем не чувствует, как мне мучительны эти мелкие вольности!
Иоганн Вольфганг фон Гёте, «Страдания юного Вертера»
Иоганн Вольфганг фон Гёте, «Страдания юного Вертера»
Или, скажем, вагоны ощущений Пруста. Это всё эксклюзивные ощущения автора, другой человек не может их испытать-верифицировать. Поэтому они не «правда» по меркам К-стиля, даже если вы можете испытать нечто подобное — подобия мало!
Глубоко личные тексты принадлежат другим стилям, а в «классике» автор не пишет ничего, что постеснялся бы увидеть опубликованным (само чувство «стеснения» деформировало бы стиль).
Кроме правды событий есть правда обобщений. Собственно, когда аналогичные события происходят вновь и вновь, тогда у людей и появляются обобщения, которые оттачиваются до афоризмов. К-стилем написаны «Максимы» Франсуа де Ларошфуко:
Глубоко личные тексты принадлежат другим стилям, а в «классике» автор не пишет ничего, что постеснялся бы увидеть опубликованным (само чувство «стеснения» деформировало бы стиль).
Кроме правды событий есть правда обобщений. Собственно, когда аналогичные события происходят вновь и вновь, тогда у людей и появляются обобщения, которые оттачиваются до афоризмов. К-стилем написаны «Максимы» Франсуа де Ларошфуко:
К старости недостатки ума становятся все заметнее, как и недостатки внешности.
<...>
Мы так привыкли притворяться перед другими, что под конец начинаем притворяться перед собой.
<...>
Мы так привыкли притворяться перед другими, что под конец начинаем притворяться перед собой.
Конечно, бывают спорные афоризмы, но многие однозначно правдивы, и тогда они часто принадлежат К-стилю.
Обстоятельства меняются, жизнь меняется, а вот человеческая природа в целом — нет.
И «правды» существуют независимо от наблюдателя-рассказчика или «точек зрения».
Это две важные аксиомы К-стиля.
Ещё одна его аксиома: если читателю показать правду, он согласится, что это правда. Скажет: «всё так и было» / «всё так и есть». К-стиль не снисходителен к читателю, он предполагает: приложив усилия, человек может разобраться в любой теме, смог автор — сможет и читатель.
Поэтому К-стиль показывает, но не доказывает, не аргументирует. Раз автор сказал «К старости недостатки ума становятся все заметнее», значит он в этом уверен, можете не соглашаться, дело ваше. Это сильная коммуникативная позиция.
Бывают глупые люди, иногда и умные люди тупят и не видят правды — это бесспорно, такова наша природа, и К-стиль этого совсем не отрицает. Однако: мы можем тянуться к правде, работать над собой и стилем, всё лучше и лучше понимать, всё яснее и точнее выражаться. Получается не всегда, но стараться важно — так недостижимый идеал ведёт к улучшениям.
Обстоятельства меняются, жизнь меняется, а вот человеческая природа в целом — нет.
И «правды» существуют независимо от наблюдателя-рассказчика или «точек зрения».
Это две важные аксиомы К-стиля.
Ещё одна его аксиома: если читателю показать правду, он согласится, что это правда. Скажет: «всё так и было» / «всё так и есть». К-стиль не снисходителен к читателю, он предполагает: приложив усилия, человек может разобраться в любой теме, смог автор — сможет и читатель.
Поэтому К-стиль показывает, но не доказывает, не аргументирует. Раз автор сказал «К старости недостатки ума становятся все заметнее», значит он в этом уверен, можете не соглашаться, дело ваше. Это сильная коммуникативная позиция.
Бывают глупые люди, иногда и умные люди тупят и не видят правды — это бесспорно, такова наша природа, и К-стиль этого совсем не отрицает. Однако: мы можем тянуться к правде, работать над собой и стилем, всё лучше и лучше понимать, всё яснее и точнее выражаться. Получается не всегда, но стараться важно — так недостижимый идеал ведёт к улучшениям.
3
«Повествует об интересных ему вещах»
Итак, в мире независимо от рассказчика существует нечто, которое он увидел и желает показать нам. «Увидел» вновь напоминает, как зрение доминирует среди наших чувств. Точнее будет: «воспринял». Нечто может быть вещью, местом, человеком, деятельностью, реже — абстракцией вроде математической формулы или мнения.
Но это точно не сиюминутное переживание автора, а факт реальности (литературный мир — не переживание, а реальность, просто имитационная).
Автор притворяется прозрачным окном и не искажает то, что ранее воспринял. Он не оглядывается на стереотипы и общественное мнение: если кто-то страдает, читая про негров в аду копей, не Борхес в этом виноват, а работорговцы и те, кто травмировал нежную психику читателя (может, это сам читатель и есть).
Пересказывать штампы или ориентироваться на кого-то автору неинтересно. Если он думает независимо, то даже совпадающее с общепринятыми мнениями у него будет звучать свежее, оригинальнее. Да, для этого сначала думают, а потом пишут. Самих рассуждений в тексте нет, это же не «размышленческий» стиль.
Почему автор рассказывает? Потому что считает тему занятной, достойной внимания. Это важно: автор уверен не только в своей правдивости, но и в том, что тема стоит разговора, будь это картезианские методы, экзотические приключения или дефицит туалетной бумаги. В К-стиле нет иерархии тематик (иерархии всегда навязаны обществом, на которое плевать), у автора карт-бланш, и ему не будет неловко, что он «тратит читательское время». К-стиль стоит на презумпциях, что времени всегда и у всех достаточно, читатель тоже заинтересован в теме, всем некуда спешить и незачем в себе сомневаться.
Интерес не может быть корыстным. Автор ни в чем не пытается убедить, потому что хорошо показанная правда убеждает сама по себе. Он ничего не доказывает, не влияет, не продаёт, ему от читателя ничего не нужно.
Поэтому «продающие тексты» возможны в практическом стиле, но не в классическом. Редки К-тексты, где «влияние» таки заложено — но незаметно и так, чтобы показанная правда не пострадала.
Поза: читатель может даже не подразумеваться, правдивый рассказ ценен и без него. Это эстетская, аристократическая позиция: у меня полно времени, я трачу его как хочу, никто и ничто меня не вынуждает. Страх, амбиции, репутация, выгоды, любой недобровольный зуд, любое давление… всё это не играет роли. Занятная правда самоценна, уделять ей время — не всем доступная роскошь.
Относительно редактирования автор твердо стоит на позиции «принцессы не какают». Правда так очевидна, что сразу появляется перед нами в оптимальной форме! Понятно, что это семантическое фэнтези, но в нём есть смысл. Да, на кухне ресторана — чад, пот и слёзы, но ваше ли это дело, когда вы посетитель ресторана? Прибавит ли вам аппетита зрелище извлекаемых куриных кишок или чистки овощей? Так и читателю «приносят готовое».
Спортсмен, джазмен или цирковой артист могут импровизировать, и мы понимаем, что за импровизацией стоят годы разного нудного: гаммы, травмы, мозоли. Но это мы отдельно от восприятия понимаем. Импровизация потому и впечатляет, что берется как будто «из ничего». Выступление цельно, неделимо на части. А всё нудное, вся отработка частей — за кадром.
Вероятно, именно классический стиль ответственен за вредный стереотип «ежели кто талантлив, тот гений садится и сразу начисто пишет» :)
Но чудес опять [почти никогда] не бывает: лишь благодаря работе написанное не выглядит как результат работы. И гении впахивают.
Но это точно не сиюминутное переживание автора, а факт реальности (литературный мир — не переживание, а реальность, просто имитационная).
Автор притворяется прозрачным окном и не искажает то, что ранее воспринял. Он не оглядывается на стереотипы и общественное мнение: если кто-то страдает, читая про негров в аду копей, не Борхес в этом виноват, а работорговцы и те, кто травмировал нежную психику читателя (может, это сам читатель и есть).
Пересказывать штампы или ориентироваться на кого-то автору неинтересно. Если он думает независимо, то даже совпадающее с общепринятыми мнениями у него будет звучать свежее, оригинальнее. Да, для этого сначала думают, а потом пишут. Самих рассуждений в тексте нет, это же не «размышленческий» стиль.
Почему автор рассказывает? Потому что считает тему занятной, достойной внимания. Это важно: автор уверен не только в своей правдивости, но и в том, что тема стоит разговора, будь это картезианские методы, экзотические приключения или дефицит туалетной бумаги. В К-стиле нет иерархии тематик (иерархии всегда навязаны обществом, на которое плевать), у автора карт-бланш, и ему не будет неловко, что он «тратит читательское время». К-стиль стоит на презумпциях, что времени всегда и у всех достаточно, читатель тоже заинтересован в теме, всем некуда спешить и незачем в себе сомневаться.
Интерес не может быть корыстным. Автор ни в чем не пытается убедить, потому что хорошо показанная правда убеждает сама по себе. Он ничего не доказывает, не влияет, не продаёт, ему от читателя ничего не нужно.
Поэтому «продающие тексты» возможны в практическом стиле, но не в классическом. Редки К-тексты, где «влияние» таки заложено — но незаметно и так, чтобы показанная правда не пострадала.
Поза: читатель может даже не подразумеваться, правдивый рассказ ценен и без него. Это эстетская, аристократическая позиция: у меня полно времени, я трачу его как хочу, никто и ничто меня не вынуждает. Страх, амбиции, репутация, выгоды, любой недобровольный зуд, любое давление… всё это не играет роли. Занятная правда самоценна, уделять ей время — не всем доступная роскошь.
Относительно редактирования автор твердо стоит на позиции «принцессы не какают». Правда так очевидна, что сразу появляется перед нами в оптимальной форме! Понятно, что это семантическое фэнтези, но в нём есть смысл. Да, на кухне ресторана — чад, пот и слёзы, но ваше ли это дело, когда вы посетитель ресторана? Прибавит ли вам аппетита зрелище извлекаемых куриных кишок или чистки овощей? Так и читателю «приносят готовое».
Спортсмен, джазмен или цирковой артист могут импровизировать, и мы понимаем, что за импровизацией стоят годы разного нудного: гаммы, травмы, мозоли. Но это мы отдельно от восприятия понимаем. Импровизация потому и впечатляет, что берется как будто «из ничего». Выступление цельно, неделимо на части. А всё нудное, вся отработка частей — за кадром.
Вероятно, именно классический стиль ответственен за вредный стереотип «ежели кто талантлив, тот гений садится и сразу начисто пишет» :)
Но чудес опять [почти никогда] не бывает: лишь благодаря работе написанное не выглядит как результат работы. И гении впахивают.
4
Отношение к читателю
Автор и читатель — равноправные собеседники, у них нет иерархических «ролей», автор не имеет привилегированного положения, и не смотрит свысока. В аристократизме К-стиля нет снобизма: уже решено, что любой добросовестный и здравомыслящий человек способен распознать и оценить правду, когда её показывают. Да, возможно, придется побороть какие-то предрассудки, с чем-то смириться. Тем не менее, путь к правде открыт, идти или нет — решать самому читателю, автор его не ограничивает, но и не подталкивает.
А не делает ли ориентация на здравомыслящих людей стиль элитарным? Делает. Ладно бы только полная независимость и роскошь свободного времени — людям обычно не хватает ещё и интереса к правде (любопытства), и мозгов, чтобы отличать её от наглейшего вранья. Что тут объяснять: этот курс доделан в 2023 году, потому что, едва закончив первую главу, автор весь 2022 год поражался отсутствию мозгов на родине.
В общем, демократический аристократизм: стиль ориентирован на «думающее меньшинство», но примкнуть к меньшинству позволено любому, кто готов думать.
Из читателя, повторю, не извлекают никаких выгод и интимом «самого сокровенного» с ним тоже не делятся. Симметрия взаимного уважения на средней дистанции, без высокомерия, самоуничижения или поучений. Gentlemanship, if you will..
А не делает ли ориентация на здравомыслящих людей стиль элитарным? Делает. Ладно бы только полная независимость и роскошь свободного времени — людям обычно не хватает ещё и интереса к правде (любопытства), и мозгов, чтобы отличать её от наглейшего вранья. Что тут объяснять: этот курс доделан в 2023 году, потому что, едва закончив первую главу, автор весь 2022 год поражался отсутствию мозгов на родине.
В общем, демократический аристократизм: стиль ориентирован на «думающее меньшинство», но примкнуть к меньшинству позволено любому, кто готов думать.
Из читателя, повторю, не извлекают никаких выгод и интимом «самого сокровенного» с ним тоже не делятся. Симметрия взаимного уважения на средней дистанции, без высокомерия, самоуничижения или поучений. Gentlemanship, if you will..
5
«Не отвлекаясь на языковые игры»
Основной параметр языка здесь — сдержанная элегантность. Слова передают содержание, но не привлекают внимания сами по себе: пышные гиперболы оставляем романтикам, языковые игры — постмодернистам.
Мета забанена вся. Нет даже указателей типа «как все мы знаем», «перейдем ко второй части» или «это можно обозначить словом…» Наш текст не знает, что он текст, что у него есть структура, параметры и т. д. Соответственно, не может на всё это указывать. Даже когда я говорю «Точнее,…» чтобы вставить пояснение, это нарушает К-правила. Отточенной формулировке поправки не нужны!
Поза К-стиля: для каждой правды, для каждого наблюдения, существует идеальная формулировка, точная, без лишних слов и при этом изящная. Томас и Тёрнер, на мой вкус, недообъяснили, как именно достигается изящество. Возьму их пример из сопоставления с базовым стилем.
«Правда чиста и проста» (The truth is pure and simple) — базовый (plain) стиль.
«Правда редко чиста и никогда не проста» (The truth is rarely pure, and never simple) — классический стиль.
Что произошло? Добавлен некий смысловый выверт, некие дополнительные связи между частями предложения, и оно практически становится афоризмом. Насколько я понял, чаще всего эта афористичность появляется от подчеркивания параллелей или, наоборот, сопоставления противоречий.
Тот же Ларошфуко:
Мета забанена вся. Нет даже указателей типа «как все мы знаем», «перейдем ко второй части» или «это можно обозначить словом…» Наш текст не знает, что он текст, что у него есть структура, параметры и т. д. Соответственно, не может на всё это указывать. Даже когда я говорю «Точнее,…» чтобы вставить пояснение, это нарушает К-правила. Отточенной формулировке поправки не нужны!
Поза К-стиля: для каждой правды, для каждого наблюдения, существует идеальная формулировка, точная, без лишних слов и при этом изящная. Томас и Тёрнер, на мой вкус, недообъяснили, как именно достигается изящество. Возьму их пример из сопоставления с базовым стилем.
«Правда чиста и проста» (The truth is pure and simple) — базовый (plain) стиль.
«Правда редко чиста и никогда не проста» (The truth is rarely pure, and never simple) — классический стиль.
Что произошло? Добавлен некий смысловый выверт, некие дополнительные связи между частями предложения, и оно практически становится афоризмом. Насколько я понял, чаще всего эта афористичность появляется от подчеркивания параллелей или, наоборот, сопоставления противоречий.
Тот же Ларошфуко:
К старости недостатки ума становятся все заметнее, как и недостатки внешности.
<...>
Мы так привыкли притворяться перед другими, что под конец начинаем притворяться перед собой.
<...>
Мы так привыкли притворяться перед другими, что под конец начинаем притворяться перед собой.
То есть, заметив-показав схожее в различном или разницу в похожем, мы сигналим: «смотрите, какой я наблюдательный интеллектуальный классический джентльмен!» (я было хотел пошутить про «или джентльменка», но К-стиль тут не велит).
Важно и расставить оптимальным образом сами слова. Вот афоризм Толстого (невозможно писать одними афоризмами, но на них проще показывать идеал К-стиля):.
Важно и расставить оптимальным образом сами слова. Вот афоризм Толстого (невозможно писать одними афоризмами, но на них проще показывать идеал К-стиля):.
Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему
Лев Толстой, «Анна Каренина»
Лев Толстой, «Анна Каренина»
Переставлю слово в первой половине:
Все счастливые семьи друг на друга похожи, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.
Видите? Параллелизм сломался, афоризм потерял афористичность и закрывается на ремонт.
Добавлю к исходнику «подстраховку» и несколько ненужных служебных слов:
Возможно, все счастливые семьи чем-то похожи друг на друга, но при этом каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.
«Возможно» говорит о неуверенности автора, грубое нарушение стиля! Противопоставляющее «но» непонятно что даёт, «при этом» — просто мусор. Короче, в идеальном мире, где у нас полно времени, мы вычищаем синтаксис до блеска.
Но к (псевдо)паралеллям и (псевдо)противоречиям афористичность не сводится. Например, Томас и Тёрнер упоминают, что «непредсказуемые финалы» фраз тоже важны.
Все счастливые семьи друг на друга похожи, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.
Видите? Параллелизм сломался, афоризм потерял афористичность и закрывается на ремонт.
Добавлю к исходнику «подстраховку» и несколько ненужных служебных слов:
Возможно, все счастливые семьи чем-то похожи друг на друга, но при этом каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.
«Возможно» говорит о неуверенности автора, грубое нарушение стиля! Противопоставляющее «но» непонятно что даёт, «при этом» — просто мусор. Короче, в идеальном мире, где у нас полно времени, мы вычищаем синтаксис до блеска.
Но к (псевдо)паралеллям и (псевдо)противоречиям афористичность не сводится. Например, Томас и Тёрнер упоминают, что «непредсказуемые финалы» фраз тоже важны.
Харди был что-то вроде Тюринга предыдущего поколения: ещё один обычный английский атеист-гомосексуал, который оказался одним из лучших математиков в мире.
(Hardy was something of a Turing of an earlier generation; he was another ordinary English homosexual atheist, who just happened to be one of the best mathematicians in the world).
Фрэнсис-Ноэль Томас, Марк Тёрнер, "Clear and Simple as the Truth"
(Hardy was something of a Turing of an earlier generation; he was another ordinary English homosexual atheist, who just happened to be one of the best mathematicians in the world).
Фрэнсис-Ноэль Томас, Марк Тёрнер, "Clear and Simple as the Truth"
Тут есть параллель, есть и ирония: ни быть атеистом, ни быть гомосексуалом в Англии того времени не было "ordinary" (Тюринга, собственно, до суицида довели за ориентацию). То есть параллелей две: Тюринг-Харди (которые тоже не были ordinary) и атеизм-гомосексуальность.
Если копнуть на уровень глубже, можно разглядеть и утверждение «гомосексуальность — это нормально». В афоризмах часто больше пропозиций, чем кажется.
Я привожу оригиналы фраз, потому что — и это ужасное знание, приготовьтесь — невозможно полностью сохранить элегантность стиля в переводе. Вернемся к примеру про правду:
Если копнуть на уровень глубже, можно разглядеть и утверждение «гомосексуальность — это нормально». В афоризмах часто больше пропозиций, чем кажется.
Я привожу оригиналы фраз, потому что — и это ужасное знание, приготовьтесь — невозможно полностью сохранить элегантность стиля в переводе. Вернемся к примеру про правду:
Jack: That, my dear Algy, is the whole truth pure and simple.
Algernon: The truth is rarely pure and never simple.
Оскар Уайльд, «Как важно быть серьёзным»
Algernon: The truth is rarely pure and never simple.
Оскар Уайльд, «Как важно быть серьёзным»
Мне не нравится мой перевод, но что сделал профессиональный переводчик?
Джек: Вот, собственно, дорогой мой Алджи, и вся правда, чистая и святая.
Алджернон: Правда редко бывает чистой и еще реже святой.
Святой? Never = «ещё реже»? Really? ОК, берем другого переводчика.
Джек: Вот, мой дорогой Алджи, вся правда, и притом чистая правда.
Алджернон: Вся правда редко бывает чистой.
Ни рожек ни ножек не осталось от афоризма: Уайлд низведён к базовому стилю. Брр, ничего святого! Но, увы, иногда и суперпрофессионал перевода тут не спасёт.
Джек: Вот, собственно, дорогой мой Алджи, и вся правда, чистая и святая.
Алджернон: Правда редко бывает чистой и еще реже святой.
Святой? Never = «ещё реже»? Really? ОК, берем другого переводчика.
Джек: Вот, мой дорогой Алджи, вся правда, и притом чистая правда.
Алджернон: Вся правда редко бывает чистой.
Ни рожек ни ножек не осталось от афоризма: Уайлд низведён к базовому стилю. Брр, ничего святого! Но, увы, иногда и суперпрофессионал перевода тут не спасёт.
«Простая» версия содержит много элементов классического стиля, не являясь «классической»; классическая содержит в себе всю простую версию, не являясь простой.
(The plain version contains many elements of classic style without being classic; the classic version contains all of the plain version without being plain).
(The plain version contains many elements of classic style without being classic; the classic version contains all of the plain version without being plain).
Фрэнсис-Ноэль Томас, Марк Тёрнер
Говорят нам про две этих фразы Уайлда.
Наверное, стоит сопоставлять сразу три стиля: базовый (plain), классический и практический.
Базовый:
Базовый:
Птиц понимать нетрудно. Их поведение говорит мне, о чем они думают. Как правило, о чем-то таком: «Это еда? Точно еда? А это? Должно быть, еда. Наверняка еда». Или, временами: «Идет дождь. Мне неприятно».
Сюзанна Кларк, «Пиранези»
Сюзанна Кларк, «Пиранези»
Больше всего его беспокоила их обувь. Обувь и еда. Еда — постоянно. В какой-то старой коптильне нашли забытый в дальнем углу окорок. Можно было подумать, черт-те сколько пролежавший в могиле. Окаменевший от времени. Взрезал его ножом. Под жесткой коркой — темно-красное соленое мясо. Вроде есть можно. Питательное. В тот же вечер поджарили над костром толстые куски окорока и добавили их в банку тушеных бобов. Позже он очнулся в темноте, почудилось, будто слышит барабанную дробь где-то внизу, среди темных холмов. Потом ветер поменял направление, и звуки поглотила тишина.
Кормак Маккарти, «Дорога»
Кормак Маккарти, «Дорога»
Базовый стиль тяготеет к простой лексике и короткому / простому синтаксису. Без изысков, зато понятно.
Классический стиль отталкивается от простого, но добавляет те самые выверты, использует сложные слова и, если захочется, длинный синтаксис (но не настолько длинный, чтоб потерять элегантность):
Классический стиль отталкивается от простого, но добавляет те самые выверты, использует сложные слова и, если захочется, длинный синтаксис (но не настолько длинный, чтоб потерять элегантность):
Жан Шапп много месяцев каретами, лодками, санями добирался до Сибири, бережно прижимая к груди при каждом опасном толчке свои хрупкие инструменты, чтобы к концу пути узнать, что последний, крайне важный отрезок преградили реки, разлившиеся в результате необычно сильных весенних дождей, вину за которые местные обитатели возложили на самого астронома, едва увидели, как он нацеливает на небо странные приборы. Шаппу удалось спастись, но никаких полезных измерений он выполнить не смог.
Билл Брайсон, «Краткая история почти всего на свете»
Билл Брайсон, «Краткая история почти всего на свете»
Короткий синтаксис тоже используется:
Physics has a history of synthesizing many phenomena into a few theories.
Ричард Фейнман, «КЭД – странная теория света и вещества»
Ричард Фейнман, «КЭД – странная теория света и вещества»
(перевод этой фразы «История физики состоит в синтезировании на основе множества явлений нескольких теорий» комментировать не хочу)
К-стиль может использовать тропы, которые помогают показывать нагляднее. Это же основная задача.
К-стиль может использовать тропы, которые помогают показывать нагляднее. Это же основная задача.
Смертными настолько владеет слепое любопытство, что они направляют свой ум на неизведанные пути безо всякого основания для надежды, просто лишь для того, чтобы испытать, не подвернется ли им под руку то, что они ищут, подобно тому, кто, обуреваемый безрассудным желанием найти драгоценность, вечно блуждает по дорогам в надежде на то, что ее может обронить какой-нибудь прохожий. Так трудятся почти все химики, многие геометры и немалое число философов.
Рене Декарт. «Рассуждение о методе»
Рене Декарт. «Рассуждение о методе»
Синтаксически неэлегантно? Думаю, на французском было получше.
Входит с репликой практический стиль: «Какие ещё тропы, какая элегантность? Мне тут геморроидальные свечи надо скорей продать через рассылку, не морочьте голову ерундистикой вашей».
Входит с репликой практический стиль: «Какие ещё тропы, какая элегантность? Мне тут геморроидальные свечи надо скорей продать через рассылку, не морочьте голову ерундистикой вашей».
Афобазол® не вызывает мышечную слабость, сонливость и не обладает негативным влиянием на концентрацию внимания и память. При его применении не формируется привыкание, лекарственная зависимость и не развивается синдром «отмены». После перорального приема Афобазол® хорошо и быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта.
(среднего качества практический стиль)
В компании работают 100 компетентных специалистов, и мы постоянно ищем новых. Посмотрите актуальные вакансии.
Также у нас открыты программы стажировок по направлениям:
* Backend-разработка
* Frontend-разработка
* UX-дизайн
Также у нас открыты программы стажировок по направлениям:
* Backend-разработка
* Frontend-разработка
* UX-дизайн
(практический стиль получше; не «простой», потому что слова «компетентные», «актуальные», «backend-разработка» etc — для простого стиля сложноваты).
В реальности стили с другом другом пересекаются, потому что — многих ли заботит стилевая чистота? И гибриды бывают не только кривыми, но и вполне качественными. Вот практический (целеориентированный) текст на базе классического стиля.
Когда мы говорим о стилях, мы говорим об абстрактных идеальных системах. Невротически гнаться за идеалом не стоит: он лишь ориентир. Некоторые очевидно К-стильные тексты содержат вкрапления других стилей, и в практическом или романтическом эпизодами встречается «классика», потому что, хей, всем иногда надо показывать события. Вот Борхес вклинивает в «размышленческий» текст и показ «иду мимо кладбища», и внутренние переживания, характерные для романтического стиля.
Но это, как и текст про апельсин, профессиональная работа. Прежде чем смешивать стили, стоит освоить их по отдельности. Не думайте, что классический стиль безличен: темы, которые выбираете, и то, как вы их показываете — вполне уникальные характеристики вашей личности. Пространства для самовыражения там хватит.
В реальности стили с другом другом пересекаются, потому что — многих ли заботит стилевая чистота? И гибриды бывают не только кривыми, но и вполне качественными. Вот практический (целеориентированный) текст на базе классического стиля.
Когда мы говорим о стилях, мы говорим об абстрактных идеальных системах. Невротически гнаться за идеалом не стоит: он лишь ориентир. Некоторые очевидно К-стильные тексты содержат вкрапления других стилей, и в практическом или романтическом эпизодами встречается «классика», потому что, хей, всем иногда надо показывать события. Вот Борхес вклинивает в «размышленческий» текст и показ «иду мимо кладбища», и внутренние переживания, характерные для романтического стиля.
Но это, как и текст про апельсин, профессиональная работа. Прежде чем смешивать стили, стоит освоить их по отдельности. Не думайте, что классический стиль безличен: темы, которые выбираете, и то, как вы их показываете — вполне уникальные характеристики вашей личности. Пространства для самовыражения там хватит.
